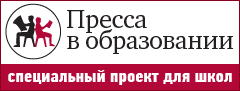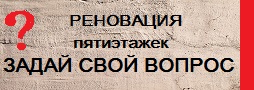Александр Городницкий: Воспоминания о блокаде «перезагрузке» не подлежат

27 января объявлен в России Днем воинской славы: именно в этот день в 1944 году произошло снятие блокады Ленинграда. Годы летят, и сегодня трудно найти человека — очевидца событий, для которого блокадный Ленинград и Дорога жизни являются частью биографии. Но «ЮГ» это удалось: наш собеседник — доктор геолого-минералогических наук, профессор и главный научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук, ученый-геофизик с мировым именем и по совместительству — поэт и основоположник бардовской песни Александр Городницкий.

— Александр Моисеевич, недавно мы получили письмо от женщины, которую еще ребенком вместе с вами вывозили на грузовике по Дороге жизни из блокадного Ленинграда. Она писала про вас: «Сашенька был очень добрым мальчиком, было очень холодно, и он отдал мне свои варежки»… Вы это помните?
— Я этого не помню. Но воспоминания о блокаде и о Дороге жизни хоть и фрагментарны, но весьма отчетливы, и они вошли в мой авторский фильм «Мой Питер». Наша память такова, что многие вещи не хочется вспоминать. Человек ко всему привыкает. Когда на бульваре появляется первый труп, то все ахают, охают… А когда он не один, это становится элементом быта.
Мы с матерью оставались в блокадном Ленинграде до апреля 1942 года, когда меня вместе с другими ленинградскими детьми на грузовиках вывезли по Ладожской трассе. Первый год блокады был самый тяжелый и страшный. Наш дом сгорел в феврале 1942 года. Но не от бомбы или снаряда — этажом выше умерла соседка, не сумев погасить

буржуйку. Тушить не было ни сил, ни возможностей. Мы просто ушли в другой дом. На 7-й линии, где жили, был бульвар. Там вырубили все деревья — на дрова. Следом за деревьями исчезли кошки, голуби и собаки — их съели. Потом на дрова разобрали соседний деревянный дом. А потом мать перестала выпускать меня из дома, потому что пошли слухи, что маленьких детей воруют, убивают и продают на Андреевском рынке.
В мои руки однажды случайно попал дневник Коли Ремидовского — десятиклассника, умершего в 1942 году и похороненного на Пискаревском кладбище. Он пишет о том, что самое страшное — не бомбежки и не голод, не мороз, а то, что люди изменились. Были добрые, отзывчивые, а стали злые, жестокие.
— Страшно ли вам, мальчишке, было, когда вас везли по льду Ладожского озера?
— Да, было страшно. И холодно. Это ведь происходило в апреле 1942 года. На льду уже появилась вода. Выехали мы рано утром, чтобы не привлекать внимание немецкой авиации и артиллерии. Сидели в кузове, укрывшись брезентом. О детских впечатлениях я написал в «Стихах неизвестному водителю».
«Водитель, который меня через Ладогу вез, С другими детьми, истощавшими за зиму эту. На память о нем ни одной не осталось приметы. Высок или нет он, курчав или светловолос. Связать не могу я обрывки из тех кинолент, Что в память вместило мое восьмилетнее сердце: Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент, Трехтонки поношенной настежь раскрытая дверца. Глухими ударами била в колеса вода, Гремели разрывы, калеча усталые уши. Вращая баранку, он правил упорно туда, Где старая церковь белела на краешке суши. Он в братской могиле лежит, заметенной пургой, В других растворив своей жизни недолгий остаток. Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой, За то, что вчера разменял я девятый десяток». Сдержать не могу я непрошеных старческих слез, Лишь только заслышу весенние трели капели, Водитель, который меня через Ладогу вез, Чтоб долгую жизнь подарить мне в далеком апреле» Александр Городницкий «Cтихи неизвестному водителю»
Потом, после блокады, я год не ходил в школу — болел дистрофией. Вся моя последующая жизнь — смесь трагического со смешным. Но эти воспоминания остаются одними из самых страшных в жизни, они «перезагрузке» не подлежат.
— Да, у вас же вышла книга стихов именно с таким названием — «Перезагрузка». А что еще в вашей жизни «перезагрузке» не подлежит?
— Моя жизнь — это десятилетия, проведенные в экспедициях. Я три года плавал вал под парусами «Крузенштерна». Три десятилетия бороздил океанические просторы в разных точках земного шара. До сих пор иногда я ночью просыпаюсь от ощущения того, что по брезенту стучит дождик и кричит пролетающая птица. От ощущения, что надо вставать и идти в маршрут. Потом спохватываюсь. Это ощущение осталось на всю жизнь, оно тоже не подлежит «перезагрузке». Я даже стакан ставлю определенным образом на стол, чтобы он не упал при качке корабля. И с этим ничего не поделать!