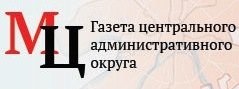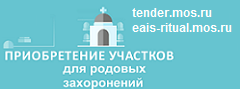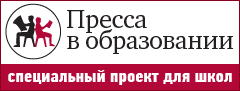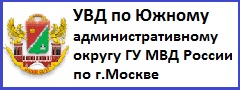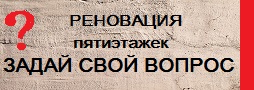«Наш Купер»: не стало главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова

Это известие для всех нас стало шоком. Александр Иванович был воплощением энергии. Под столетие «Вечерки», правда, он перенес инфаркт — серьезный. Берег себя какое-то время, потом… перестал. Да иначе, тихо, он жить просто не умел — не такой человек. Пока написать «был» не получается…
Он родился на Нижнем Амуре и трогательно вспоминал о своем непростом месте, где крепкая дружба переплеталась с драками и настоящими испытаниями на прочность. Любил рассказывать о детстве в интернате, превращаясь при этом в мальчишку-хулигана. Но именно оттуда, из этого непростого своего начала, и родился наш Купер — такой, каким мы все его знали и любили, несмотря на его непростой характер.
На его 70-летии, мучаясь, как бы произнести честный тост, сделать так, чтобы он не звучал заискивающе или льстиво, я сказала: «Александр Иванович, вы — строка в биографии любого человека, который работал с вами!». И это правда так. Очень горько, что и эта фраза сейчас уходит в прошлое.
Человек с невероятно трудным характером, острый, иногда желчный, состоящий из сплошных экстремумов, живущий, как и многие люди его поколения, «на разрыв аорты», Куприянов вольно или невольно становился значимой частью судьбы каждого, с кем соприкасался по жизни и в профессии.
Он, сам репортер и очеркист, представитель яркой школы дальневосточной журналистики, до безумия любил «Комсомольскую правду». Эта газета сделала его как профессионала, а с ее многолетним главным редактором Владимиром Сунгоркиным он дружил более полувека. Именно в «КП» были опубликованы самые яркие материалы Куприянова-журналиста. И хотя работал он и в «Известиях», и в «Российской газете», а также создавал нашумевшую в свое время «Экспресс-газету», именно «КП» была его первой и основной любовью. А любовью зрелой стала наша «Вечерка».
Он пришел в нее и оживил, переформатировал ее, перезапустил еженедельник «ВМ», а потом активно инициировал ее заход в метро. «Эту газету человек должен брать и читать для развлечения, пока едет от одной станции до другой!» — учил он, добиваясь, чтобы «метрошная «Вечерка» стала особенным, легким и комфортным изданием. Когда не так давно ее тираж вырос, он радовался как ребенок… Который, наверное, никуда не уходил из него — ныне известного литератора и медиавеличины.
На период работы Александра Ивановича в «Вечерке» выпал его литературный взлет. Он рассказывал, что писал всю жизнь, но почему-то только «под старость», которой на самом деле не чувствовал, его начали издавать. За последние годы он выпустил более десятка книг, идеи которых вынашивал годами с юности. Еще больше идей было впереди.
«У меня три романа задуманы и почти написаны, — говорил он, хитро щуря глаз. — Я такое придумал, не представляешь…».
И это правда: удивительно, но он оставался фантазером, выдумщиком, обожал новые идеи, а ненавидел — скучные тексты, «электронную щебенку», отсутствие выдумки и жизни. Газета была для него живой. Всегда, ежедневно.
Он фанатично боролся за авторскую журналистику, страшно переживал о том, что мы все впадем в обольщение прелестями искусственного интеллекта и станем его рабами. Понимал, что прогресс не остановить, что бороться с ним бесполезно, и шел в ногу со временем, но все-таки оборачиваясь назад. Туда, где было непростое, но светлое, несмотря ни на что, детство, хулиганская, но яркая юность, а потом — настоящая, действенная журналистика и настоящая, скрепленная часами разговоров, посиделок, совместных планов дружба.
Как литератор он питал слабость к жанру антиутопии. Выдумать что-то необычное, поразить, заинтриговать он пытался в каждом своем творении. И болезненно ждал реакции на него. Потому что ратовал за смыслы — и в жизни, и в труде. И за то настоящее, что называется жизнью. Которая когда-то кончается…
Он придумал и открыл школу юнкоров, сопротивляясь внутренним процессам в журналистике и пытаясь сохранять то ценное в ней, во что верил сам.
Он любил создавать «звезд», если вдруг начинал верить в кого-то, и болезненно переживал крушение своих надежд.
Он мог очень сильно обидеть, часто злился и «пылил», но под Новый год (это была традиция) извинялся перед всеми, понурив голову, как нашкодивший пацан: «Ну вы же знаете меня, такой уж у меня характер…».
За его спиной и правда остались тиражи — он хвастался ими не просто так. И годы настоящей дружбы с теми, кто знал его лучше всех и искренне любил, невзирая на непростой нрав.
Он был и останется не просто строкой, а огромным абзацем в биографии любого человека, который соприкасался с ним даже на мгновение.
…Горько и страшно вспоминать сейчас слова, которые Александр Иванович (за глаза — «наш Купер») повторял чаще, чем другие: «Незаменимых нет. Вот идет корабль. Упал человек с борта, а пусть бы и капитан, и судно чуть качнется от набежавшей волны, а потом выровняется и пойдет по тому курсу, по которому шло…».
Он повторил бы их и сейчас. Корабль наш шатнуло, и сильно. И курс-то неизменен, конечно, но пока ничего не видно от соленой воды на лице — и это не только волны.
Сплавщик, турист, он не поехал в ту поездку, что стала последней для его близкого друга Владимира Сунгоркина. Потом грустно шутил: «Володя все звал, говорил — поедем, посидим у костерка…». Один раз почему-то сказал — в последний раз.
Тогда — не посидели. Посидят сейчас — там, в лучшем из миров, про который Александр Иванович почему-то так часто говорил в последнее время. Чувствовал что-то? Да нет. Если только очень смутно… Скорее, наоборот: он настроил море планов, продолжал писать и сочинять книги, придумал совместную поездку с юнкорами с «походным духом».
Глухо и пусто. Сердце подвело. Он себя не берег, совсем не берег после того — первого раза: не умел жить иначе.
Как жить без него, мы пока не поняли.